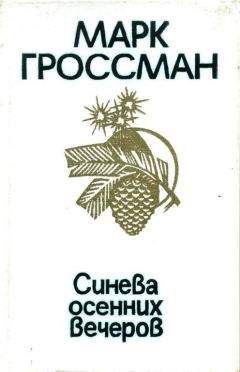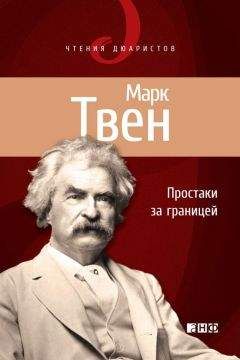Марк Гроссман - Веселое горе — любовь.
— А что? В самом деле! — обрадованно отзывается боцман. — Для души эта птица, Гуркин.
Леший, поймав кивок боцмана, неохотно садится на край койки и уныло разглядывает голубей.
— Очень полезная птичка, — кисло улыбается он.
— Для души, — еще раз, но уже сухо подчеркивает боцман. — Не всё для выгоды.
Леший раздумывает, что бы еще сказать такое приятное Авдею Егорычу, но боится попасть «в разрез».
— Эк начеканены, — наконец высказывает он похвалу. — Как копейки. И не отличишь.
Но тут он замечает, что вроде дал маху. Лицо боцмана медленно наливается краской, и Авдей Егорыч говорит с плохо скрытым неудовольствием:
— Да как же «не отличишь», Гуркин? Ведь каждый на свой лад скроен.
Он снимает птиц с плеча, опускает их в небольшой фанерный ящик и потом, вынимая попарно, показывает Лешему:
— Вот ты погляди цепче, Иван. Видишь — глаз какой? Твердый, крепкий глаз. А головка все же не грубая. Самочка, значит. И имя у нее — Мотка-губа.
Авдей Егорыч кивает на вторую птицу:
— А это — Утес, Гуркин. Голубь Мотки. Сразу видать — мужик. Телом крупнее, и нарост на носу побольше.
Боцман достает из ящика новую пару, протягивает Ваньке:
— И это пара: Метель и Семка. Почему Метель? Да очень просто! Перо у нее со светлинкой. Будто снежком присыпано. А ты: «не отличишь»! Теперь-то видишь?
— А то как же! — торопливо соглашается Леший. — С непривычки я, Авдей Егорыч, обсекся. А так, конечно... что и говорить...
— Почтовики-голуби, — делая вид, что не замечает замешательства Ваньки, продолжает боцман. — Я их не раз с моря пускал. Домой идут.
— Н-ну!? — искренне изумляется Леший. — Как же это они?
— А так! — поглаживает усы боцман. — Птица такая.
Наконец Гуркин не выдерживает:
— Кхм, — кашляет он в ладошку. — А как же с рюмкой будет, Авдей Егорыч?
— С рюмкой?.. — соображает боцман. Он неожиданно кладет Лешему на плечо пудовую руку и тихо говорит: — Ну на кой она тебе черт, водка, а? Выпьешь рюмку — и снова захочется. Не пей, Гуркин.
— Да уж позвольте... — мямлит Ванька.
— Пойдем на палубу! — зло отзывается боцман и, достав из сундучка бутылку, не оглядываясь, шагает к борту.
Повертев бутылку в огромных волосатых руках, боцман хмуро швыряет ее за борт и поворачивается к обомлевшему Ваньке.
— Скажешь: выпили мы с тобой ее, — твердо говорит он. — И чтоб больше речи про то не было. Море здесь, а не кабак. Понял?
Он оглядывает с ног до головы скорбную фигуру Лешего и роняет с внезапной жалостью:
— Пойдем ко мне, Гуркин. Гостем будешь.
— Дак нет уж... благодарствую... — отнекивается Ванька. — На вахту скоро.
— Ну, как знаешь, — хмурится боцман.
Леший уходит.
Шхуна, отбрасывая легкий дымок, идет на север. Незаходящее солнце стоит над головой, и от этого старая, насквозь пропахшая рыбой «Медуза» кажется моложе своих лет, чище, красивее.
Под палубой корабля глухо поет двигатель. Но вверху слышны только плеск волн, тихое поскрипывание рангоута[43] да заунывный крик чаек.
Очередная вахта занята своими делами — и ничто не нарушает размеренной жизни на палубе, в машинном отделении, в радиорубке.
Молодой радист Коля, по прозвищу Спасите Наши Души, выстукивает все, что требуется по службе, и строго записывает положенное в журнал.
— Ну, как, Коля, — спрашивает его капитан, тоже молодой человек, из поморов, — есть связь с траулерами?
Спасите Наши Души скребет мизинцем по своим мальчишьим усам, иронически улыбается:
— Не беспокойтесь, Фрол Нилыч. У меня — в ажуре.
«Щеголь, хвост веретеном», — неприязненно думает капитан, покидая рубку.
Капитан стоит на мостике, задумчиво вглядывается в горизонт, дымит трубкой и потирает подбородок жесткими короткими пальцами.
К нему неслышно подходит боцман — и тоже, прищурив глаза, пытается что-то рассмотреть в безбрежных просторах неба и моря.
— Давленье падает, — не оборачиваясь, говорит капитан. — Как бы не заштормило, Авдей Егорыч.
— Самое простое дело, — соглашается боцман. — Соль мокнет. Пари́т...
Небо, совсем еще недавно — синее и высокое, теперь «низит», кажется белесоватым и мутным. Больше становится слоистых облаков. Высокие перистые облака бегут наперекор ветру, дующему у воды.
Вода из нежно-зеленой становится свинцовой, «тяжелеет», обрастая поверху белопенными гребешками.
— Пока ничего т а к о г о нет, — вслух соображает капитан, нажимая на слово «такого». — Идите, отдыхайте, Авдей Егорыч.
Боцман спускается в кубрик.
За столом, сменившись с вахты, сидят Ванька Леший, Евсей и Чжу. Федька Гремячев пытался было заснуть, но его разбудил смех матросов, которым Евсей рассказывает что-то потешное.
Увидев боцмана, поп-еретик подмигивает Лешему и говорит, осклабясь:
— Перевлюбчивый ты человек, Леший. Нельзя так. Проси прощенья у Авдей Егорыча...
Ванька, начисто выданный Евсеем, пугливо хлопает ресницами, бормочет что-то себе под нос. Можно разобрать только обрывки фраз: «Ить обещал же... А так, что ж... я молчу... мне что...»
Боцман садится на свободное место, неодобрительно поглядывает на Евсея:
— В чужой сорочке блох ищешь, поп.
— Язвы друга, наносимые по братолюбию — достоверней вольных лобзаний врага, — торжественно вещает Евсей. — К тому же апостол Иоанн возглашал: в деле любви несть страха!
— Жил бы ты потише, что ли! — в сердцах советует боцман. — Столько шума, что и в уши не влезает.
Евсей несколько минут молчит. Но внезапно дергает себя за бороду, что всегда значит: в голову попу пришла новая затея.
Евсей поудобнее устраивается за столом и начинает длинный рассказ об авгурах. И выходит из его слов, что были в Древнем Риме такие жрецы — авгуры — жулики и пройдохи, которые по полету птиц объясняли волю богов. А когда собирались вместе, то похвалялись, как ловко обманывают народ, и смеялись над ним.
— Потому как птица — глупая тварь. И ничего от нее быть не может, — закругляет Евсей, сурово посматривая на веселые физиономии матросов.
Боцману уже ясно, что Ванька рассказал кубрику о голубях, и Евсей припомнил авгуров специально для того, чтоб досадить любителю птицы.
— Знать бы тебе надо, поп, — сдержанно парирует боцман, — что́ для человека птица. Во все века любил ее человек. Голуби, скажем, у евреев и римлян, или белый журавушка у японцев, или птица-ибис в Древнем Египте. У каждого народа своя любовь есть.
Евсей собирается что-то отвечать, но в это мгновенье шхуну резко кладет на борт, и Авдей Егорыч спешит наверх.